Предрассудки перестройки в экономике
В разрушении общества и государства во время перестройки ключевую роль сыграли
материалистические предрассудки, которые берут начало в заклятии стоимости, которое
наложил Карл Маркс, и в хрущёвско-троцкистских представлениях, к сожалению,
записанных в Третьей программе КПСС.
Первый предрассудок – это всё тот же примат развития производительных сил, которые
якобы определяют развитие общества в целом. Примат роста экономики.
Он дополнялся предрассудком о существовании неких никому неизвестных пропорций
развития производительных сил, которые надо научиться соблюдать.
Первым шагом перестройки в начале 1985 года стала попытка ускорения развития
машиностроения как «ведущей отрасли» производства. Изначально такое ускорение
запоздало лет на пятьдесят. Развитие машиностроения было определяющим в 1930-е годы,
но даже к 1950-м уже важнее стала радиоэлектроника, чем машиностроение. В 1980-е годы,
если что и надо было ускорять, так это компьютерные системы (частично это было сделано).
В целом советское общество уже давно было идеалистическим обществом с
преобладанием излишков. Оно совершенно не нуждалось в новой тяжёлой промышленности,
и не так уж нуждалось в иной новой промышленности.
Что надо было делать для улучшения жизни? Достаточно было любому члену ЦК выйти
на улицу и спросить людей – что вас волнует больше всего? Ему бы сказали – до предела
достали и вымотали очереди. К чёрту теорию. Торговля, эта прослойка надстройки, стала
паразитом, который сковал всё общество. Не надо развивать производство. Исправьте
систему распределения.
Возрастающая роль науки, о которой говорила программа партии, тоже очевидно
выдохлась. Количество диссертаций, которые не имели большого практического
применения, говорило не только и не столько о бестолковости кандидатов и докторов наук,
сколько о том, что научно-материалистическое направление развития в целом исчерпывает
себя. И на Западе основные открытия делались уже в области информации, в мире цифр и
символов, а не в физическом мире.
Изменение природы уже не может существенно улучшить жизнь людей. Производство
вооружений – другое дело. Там наука ещё далеко не исчерпана. В оборонной
промышленности диссертации и изобретения внедрялись почти все.
По этой причине не удалась и попытка конверсии. И дело не в советской системе
управления – после уничтожения социализма по обе стороны океана сотни тысяч лучших
инженеров и учёных, работавших на оборону, оказались не нужными. Ибо в мирной жизни
их негде использовать. Улучшение жизни лежит в изменении отношений между людьми.
Здравые голоса во время перестройки говорили о том, что уже и так слишком много
техники, слишком много математики, не надо такого количества инженеров, надо уделять
больше внимания культуре и гуманитарным предметам. Но примат производительных сил
заглушал всё.
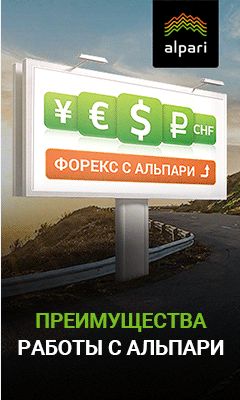
Итак, попробовали ускорить промышленность, но Запад не догнали (правда, прошло всего
полгода). Что, согласно теории, надо делать, если остановился рост производства? По
преданию Маркса это означает, что производительным силам стало тесно в устаревших
рамках производственных отношений.
В каком направлении, согласно Марксу, должны развиваться производственные
отношения? К демократии, к свободе, к уменьшению роли государства.
Отсюда напрашивается вывод – причина технической отсталости в самой советской
системе, в отсутствии рынка и демократии, в засилье государственного и партийного
управления.
И в этом была доля правды. Поскольку в основе советской экономики лежала всё та же
счётная книга, то рост экономики – это рост транзакций. Общество было идеалистическим,
но существовавшие законы и правила – законы социалистической прибыли, твёрдых цен,
главенства партии и советов над производством, социалистической идеологии –
действительно ограничивали свободу транзакций.
Возникало прямое противоречие. Надо было или успокоиться с ростом цифр, или
разломать правила.
Один из крупных предрассудков состоял в абсолютизации производительности труда и
необходимости неограниченной специализации.
В первоисточниках марксизма (и ленинизма) предполагалось, что социализм победит
капитализм благодаря более высокой производительности труда. Если производительность
труда ниже, значит и строй хуже. Предполагалось, что для специализации нет пределов.
Производительность труда в религии денег измеряется не общественной и даже не личной
пользой от результатов труда, а исключительно количеством золота или денег, которые
приносит работающий.
В советском хозяйстве 1960-1980-х годов, насыщенном необходимым,
производительность труда уже не могла измеряться в натуральных величинах. Она могла
измеряться только во всё тех же в цифрах транзакций счётной книги. Соответственно, для
роста бумажной производительности нужно было просто увеличить транзакции.
Производительность растёт по мере специализации. Специализация и оцифровка всех
отношений естественным образом увеличивают транзакции, и увеличивают экономику в
целом. В религии денег смыслом специализации является накопление денег и подчинение всего власти денег. Те крайне негативные последствия, которые излишняя специализация
имеет для сознания человека, никого не интересуют.
В СССР складывалась парадоксальная ситуация. Золото и деньги предприятия не копили,
но специализацию увеличивали. Специализация ухудшала жизнь людей. Получалась
бессмыслица.
Что надо было делать?
Не надо было ставить целью рост транзакций в счётных книгах. Надо было увеличить
долю натурального хозяйства.
Да, то, что выращено на дачных участках, не учитывается в Госплане, в бухгалтерии, в
валовом национальном продукте и так далее. Но это то, что нужно людям, и им нравится это
производить.
Надо было уменьшить обязательный рабочий день, и сделать доступными
дополнительные часы работы по желанию. Хочешь – больше работай на заводе и покупай
больше продуктов в магазинах. Хочешь – больше работай дома и на даче или занимайся
самообразованием.
Надо было дать доступ людям к простым станкам, дать им самим возможность
изготавливать для себя то, что им надо. В реальности частично так и происходило, только
полуофициальным и полунелегальным порядком.
Сложно ли было до этого додуматься? В 1952 году И.В.Сталин говорил о необходимости
в ближайшем будущем снижения рабочего дня до 5 часов, чтобы у людей было время для
культурного развития. Можно было почитать и Маркса, который писал, что богатство
страны определяется наличием у её жителей свободного времени.
Но советское общество продолжали гнать вперёд ради культа производительных сил, ради
роста транзакций в бухгалтерских книгах. Что не изменилось и после полной победы
рыночной экономики.
Следующий набор предрассудков связан с заклятьем стоимости и с абсолютизацией роли
денег в экономике.
Абсолютизация сути денег как мерила всякого труда привела к тому, что всё начали
оценивать в деньгах. Деньги стали делиться на настоящие – твёрдую валюту, и плохие –
«деревянный» рубль.
В СССР рубль был деревянным совершенно сознательно. Потому что товарно-денежные
отношения были сознательно ограничены. Деньги, золото, идол, не имели абсолютной
власти.
Смыслом не-товарно-денежных, не-«экономических» отношений на производстве,
смыслом командно-административной системы было то, что, во-первых, производство
должно развиваться исходя из здравого смысла, исходя из целей и стратегии общества,
исходя из нужд людей, а не исключительно из показателей счётной книги. Во-вторых, то, что
выгодно одному предприятию, может не приносить пользу обществу в целом, и здесь
необходимы вышестоящие органы управления.
Конечно, по мере развития общества и по мере насыщения, командовать и планировать
надо было не по инерции, а гораздо более тонко и гибко. Проблемы командно-административной
системы были в том, что она начала отдавать плохие команды, начала
ставить плохих командиров, а не в том, что плоха сама система.
Сравнивая плановую и «рыночную» экономику, в любой корпорации действует жёстко
командная и весьма плановая система. Корпорация не только планирует собственное
производство, но ещё и планирует экономические войны с конкурентами. Как мы показали
ранее в этой главе, по своему размеру корпорации превосходят большинство стран.
В СССР уменьшение роли товарно-денежных отношений в потреблении велось через
увеличение так называемых общественных фондов потребления. То есть льготных или
бесплатных образования, медицины, культуры, путёвок, жилья, транспорта и так далее. К
сожалению, право распоряжения общественными фондами потребления – это довольно
субъективное право.
Для справедливого распределения нужны хорошие руководители, нужна система их
воспитания. Между 1953 и 1985 годами хрущёвская и пост-хрущёвская система очень
сильно перевоспитала руководителей как раз от служения общему делу к служению делу
личному или групповому.
Поскольку в СССР товарно-денежные отношения и не-товарно-денежные, человеческие,
отношения между людьми, были смешаны, то дальше было два пути – или больше, или
меньше товарно-денежных отношений.
Уменьшения товарно-денежных отношений совершенно не хотелось иерархии. Поэтому
уменьшение товарно-денежных отношений стали называть командными методами,
административными, неэкономическими, волюнтаристскими. Этим методам
противопоставили «экономические» методы управления.
Разговоры об «экономических» методах управления не могут вести ни к чему, кроме как к
приданию товарно-денежным отношениям всеобщего характера, к абсолютизации реальной
власти денег, к введению религии денег в полном масштабе.
И до перестройки это хорошо понимали. Почему в СССР была высшая мера наказания и
за экономические преступления, и за предательство Родины? Потому что это одно и то же.
Партия должна управлять экономическими методами = церковь должна использовать
только пороки и дьявола для управления людьми.
Теперь даже тех, кто хотел работать не ради денег, а ради общего блага, фактически
заставляли работать только ради денег и думать только о деньгах.
С заклятьем стоимости связан и предрассудок о мировых ценах. Этот предрассудок
существует и до сих пор.
Предрассудок был тесно связан с предрассудком о твёрдой и деревянной валюте и
заключался в том, что есть мировые, объективные, правильные и командно установленные
неправильные цены. Стали говорить, что в СССР искажены пропорции цен. Цены надо
привести в соответствие с мировыми.
Система цен отражает систему ценностей. Введите мировые цены – автоматически всему
обществу будут навязываться поганые ценности.
Далее, система цен отражает соотношение стоимости труда людей, изготавливающих
разные товары. Введите мировые цены, и вы получите мировое соотношение стоимости
труда и соответствующее резкое неравенство.
Говорили, что СССР покупает кубинский сахар дороже мировой цены и нам это
экономически невыгодно. Конечно, кубинцу за уборку сахара платили выше, чем рабам на
сахарной плантации в соседнем Гаити – отсюда и цена на кубинский сахар была выше.
Покупать ли товары у рабовладельцев или у свободных людей – это вопрос веры, вопрос
философии. У рабов всегда дешевле. Конечно, если господствует философия экономической
выгоды, философия поклонения идолу, то люди не имеют значения. Но рано или поздно
купивший у рабовладельца сам станет рабом.
Верхом глупости о мировых ценах и твёрдой валюте стал перевод торговли со странами
СЭВ на доллар. Удивительно, что в 1950-е годы, когда создавали СЭВ и вводили переводной
рубль, прекрасно понимали смысл условного зачётного характера валюты, а к 1980-м годам
«экономисты» полностью продурились.
Пусть взаимный товарооборот между Болгарией и СССР составляет 100 миллионов
переводных рублей. Пусть теперь мы переводим этот существующий товарооборот на
доллары. Где взять доллары, чтобы просто переводить их с болгарского счёта на советский
счёт и обратно?
Доллар можно получить, только предварительно продав товаров на 100 миллионов в
США или в иные Западные страны, причём при этом не получив взамен никаких товаров, а
только бумажки (или цифры в компьютере), которые потом гонять между СССР и
Болгарией. А если продать на Запад нечего? Значит, Болгария и СССР вообще не смогут
торговать и между собой.
Перевод торговли внутри СЭВ в доллары – это и перевод всех денег в американские
банки, и постановка всей торговли под контроль Запада. Плюс, это и укрепление доллара, и огромный подарок Америке, которая может напечатать пустые бумажки для покрытия
нового обращения.
Те механизмы, которые сегодня предлагают самые прогрессивные антиглобалисты, чтобы
бороться с нищетой в третьем мире и с огромным долгом развивающихся стран, очень
похожи на СЭВ. Ещё немного, они дойдут и до СЭВ.
Стали говорить о том, что цены нельзя регулировать, что они должны устанавливаться
свободно, «коммерчески». Смысл фиксированных цен – не дать возможность посреднику
нажиться на производителях, не дать возможность накопить незаработанные деньги.
Фиксация цены раз и навсегда действительно бессмысленна и вредна. Цены должны
соответствовать объёмам спроса и предложения, иначе возникает чёрный рынок. При чётком
и разумном управлении (снижение цены, когда товаров стало больше; поддержание
предложения чуть выше спроса), фиксированные цены могут прекрасно работать.
Конечно, в условиях насыщения управлять ценами гораздо сложнее, чем в те времена,
когда люди покупают в основном функциональные товары. В условиях насыщения покупки
делаются не по необходимости, а определяются модой, стадным чувством.
Далее, если нарушить соотношение денежной массы и товаров – это приведёт к очередям,
дефициту и всевластью торговли, что и произошло в 1970-80-е годы, когда зарплату
повышали без увеличения выпуска товаров. Но это – проблема регулирования объёмов
денежной массы, а не проблема фиксированных цен.
И, конечно, фиксированные цены сильно мешали получению как социалистической, так и
капиталистической прибыли и увеличению объёмов транзакций, то есть росту экономики.
|